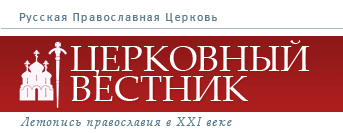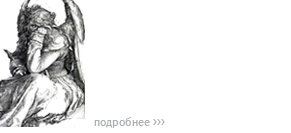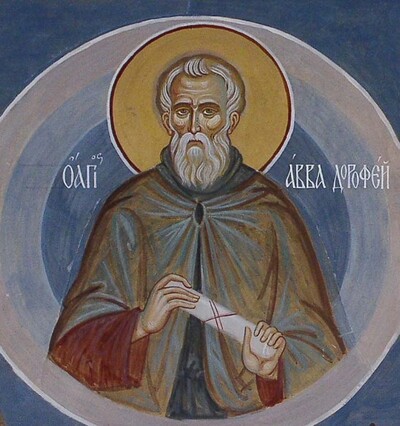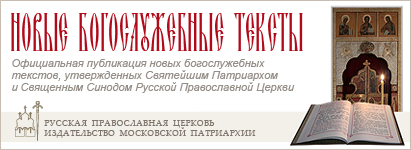Смирение1 — всегда актуальная тема для каждого христианина. Святоотеческие труды изобилуют описаниями необходимости, спасительности и полезности этой великой добродетели, «ризы Божества», первой заповеди Нагорной проповеди, которой Сам Господь советует научиться не у кого-то, но у Него Самого2. Именно на смирение Пресвятой Богородицы призрел Господь в Своем Воплощении3. PDF-версия.
Смирение парадоксально, как все христианство. У святых отцов встречается отчетливо выраженная мысль о том, что смирение — исключительно христианская добродетель, недоступная для понимания иноверного4. Более того, смирение непостижимо для дьявола и недоступно для той имитации, которой он часто подвергает все прочие добродетели, представляя себя в виде «ангела светла», а своих служителей как «служителей света»5. Дьявол может внушать человеку мнимую любовь к ближнему и истине, лживо побуждать к горделиво-строгим телесным подвигам, молитвенности и пр., — но не к смирению, которое непостижимо и противно ему. Вероятно, и по этой причине тоже смирение является самым могущественным средством борьбы против всех дьявольских искушений и уловок — оно помогает пройти через сети врага рода человеческого, даже не коснувшись их6.
Смирению посвящено много святоотеческих текстов, однако и здесь немало удивительного. Прежде всего то, что эта добродетель очень сложно определима. Святые отцы, как правило, избегают точной дефиниции смирения, часто они лишь постулируют его непостижимость. Преподобный Иоанн Лествичник говорит о божественности и непостижимости смирения, никак не определяя его суть: «Смирение есть не имеющая имени благодать в душе, теми только именуемая, которые изведали ее опытом. Это — неизреченное богатство, Божие именование и подаяние»7.
В качестве возможного варианта формального определения можно привести слова архиепископа Вениамина (Милова; † 1955): «Смирение есть радостно-печальное самоуничижение души перед Богом и людьми по благодати Святой Троицы, выражаемое мысленно молитвою и зрением грехов своих, сердечно-сокрушенными чувствами, действенно всецелой покорностью Божией воле и усердным служением людям ради Бога»8. Однако надо хорошо понимать, что это, как и любое другое определение, лишь обозначает суть добродетели, но ни в коем случае ее не исчерпывает.
Преподобный авва Дорофей объясняет, что смирение постигается исключительно опытом, а не мыслительными усилиями. Таким образом, святые отцы концентрируются не на умозрительном учении о добродетели смирения, а на практических путях ее достижения. К таковым они относят: укорение себя, послушание, телесный труд, молитву, тщательное исполнение заповедей Евангелия и т. д.
Уникальность христианского смирения подтверждается тем, что именно эта добродетель в разные времена вызывала особенно ожесточенную критику со стороны враждебных учений, что особенно ярко проявилось в Новое время, когда интеллектуальная мысль Европы стала отходить от христианства. Дэвид Юм называл смирение добродетелью, пригодной только для монахов. Фридрих Ницше видел в смирении лукавую уловку слабых и жалких людей, неспособных к подлинному величию человекобожия, духовный суррогат, которым слабое и пассивное большинство утешает свое самолюбие. Карл Маркс считал смирение одним из могущественных средств порабощения угнетенных масс и т. д.9 Секулярный мир, по мере своего отчуждения от Христа, все дальше отходит и от проповедуемой Им важнейшей добродетели.
Вместе с тем начиная примерно с последнего десятилетия XX века можно наблюдать впечатляющий рост общего интереса к смирению, о котором теперь пишут не только с богословских позиций, но и с позиции разных наук: политологии, психологии, экономики, не говоря уже о религиоведении10. Но пусть происходящее никого не обманывает. «Смирение», о котором пишут современные политологи и коммерсанты, — это совсем не то смирение, которому Воплотившийся Бог заповедал учиться у Него11 и которое в лице Его Пречистой Матери и стало причиной Воплощения12. Современные авторы подвергают само понятие христианского смирения существенной переработке, почти ничего не оставляя от его исконного смысла13.
В связи с этим интересно изучить историю формирования христианского концепта «смирение». Что предшествовало христианскому понятию смирения в ветхозаветной письменности и что — в Античности? Как формулируется эта добродетель в Священном Писании? Как богословие смирения развивалось в святоотеческих текстах, как было воспринято в греческом мире?
Славянское слово смирение, вопреки первоначальному впечатлению и «народной этимологии», происходит не от слова «мир», но от слова «мера» и обозначает приведение к определенной мере, умаление, подавление, покорность14. Этим словом русские переводчики Библии и святоотеческих творений передавали уже давно и вполне сформированное христианское учение о добродетели, которая на греческом языке имела название ταπείνωσις или ταπεινοφροσύνη (соответственно, «смирение» и «смиренномудрие»).
Однако в греческой письменности это понятие также далеко не сразу приобрело нынешнее значение. Слова ταπείνωσις и ταπεινοφροσύνη являются производными от греческого прилагательного ταπεινός, которое буквально означает «низкий», «маленький». Оно может означать низменную местность15, малое войско16, низко летающих птиц17 и т. д. От этого прилагательного образован глагол ταπεινόω, буквально — «унижать», «принижать», «умалять», «подавлять» (вплоть то физического насилия), а от него в свою очередь — отглагольное существительное ταπείνωσις, соответственно, «униженность», «подавленность» и т. п. Уже из этого спектра семантических значений можно увидеть однозначно отрицательный характер данного понятия в греческом языке. И действительно, в античном контексте слово ταπείνωσις, употребляясь в непрямом пространственном или количественном безоценочном значении, почти всегда имело негативную окраску. Это, например, низкий стиль в искусстве18, низкая (неразвитая) наука19. Еще очевиднее отрицательное значение этого слова, когда оно употребляется в нравственном контексте. В этом случае ταπεινός обозначает человека низкого, малодушного, угодливого, слабовольного, подлого и т. п.20 Соответственно, глагол ταπεινόω, означающий «унижение», и существительное ταπείνωσις, означающее «униженность», употребляются также почти исключительно в уничижительном смысле.
В нескольких случаях, правда, встречается употребление слова и в положительном ключе. Как правило, это касается смирения как покорности тому, чему, по мнению античных мыслителей, должно быть покорным: законам, общественному порядку и в первую очередь — богам21. Наиболее известный фрагмент положительного значения не только слова, но и качества смирения принадлежит диалогу Платона «Законы»:
Кто хочет быть счастлив, должен держаться этого (божественного. — Иер. П. Л.) закона и следовать ему смиренно и в строгом порядке (συνέπεται ταπεινὸς καὶ κεκοσμημένος). Если же кто, по надменности, кичится (ἐξαρθεὶς ὑπὸ μεγαλαυχίας)… распаляет свою душу заносчивостью (μεθ’ ὕβρεως)… то такой будет покинут Богом22.
Однако число подобных фрагментов ничтожно по сравнению с общим контекстом, в котором смирение употребляется однозначно негативно.
Как видно, негативное отношение к смирению как древних, так и новых критиков христианства вполне понятно. Тем удивительнее, что именно это слово было использовано для определения столь важного, основополагающего христианского духовного концепта.
Чтобы понять, как это могло произойти, необходимо погрузиться в седую древность Ветхого Завета, на протяжении которого происходило формирование понятия, легшего в основу евангельской добродетели смирения. В еврейском тексте Ветхого Завета смирение обозначалось словом עֲנָוָה (anawa), которое восходило к глаголу עָנָה (ana, притеснять, унижать, причинять зло) и прилагательному עָנִי (ani, угнетенный, нищий)23. Основное словарное значение слова ani — «нищий», как наиболее частое и очевидное проявление угнетенного состояния человека. Этимологически еврейское anа близко к греческому ταπεινόω.
В богооткровенной религии Ветхого Завета отсутствует характерное для Античности презрительное отношение к угнетенным. Во-первых, источником угнетенного состояния древний иудей считает прежде всего Бога24. В этом положении может оказаться каждый, и на протяжении всего Ветхого Завета (особенно в Псалтири и у пророков) народ Божий призывается не к уничижительному отношению к нищим, угнетенным, смиренным людям, но к справедливому и милосердному отношению к ним:
Он разбирал дело бедного (ani, греч.: ταπεινῷ, слав.: смиренных) и нищего (ebyon, греч.: πένητος, слав.: нища), и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь (Иер. 22, 16)25.
При этом в Ветхом Завете смысловое значение нищеты постепенно меняется с материального на преимущественно духовное. Если в ранних книгах богатые часто порицаются за свою безжалостность и нечестность и им противопоставляются нищие — угнетенные, но защищаемые Богом и угодные Ему, то в поздних пророческих книгах словом «нищие» начинают называть уже праведных людей и весь народ Израиля. Если богатство часто развивает у человека гордыню, то нищета, напротив, заставляет его нуждаться в помощи Бога и надежде на Него, формирует у него смирение и кротость:
А вот на кого Я призрю: на смиренного (евр.: ani, греч.: τὸν ταπεινὸν) и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим (Ис. 66, 2)26.
Поскольку в дохристианском греческом языке не было аналога понятию духовной нищеты и смирения, в Септуагинте это единое понятие передается, в зависимости от контекста, различными терминами. Глагол ana, помимо обычных ταπεινόω и κακόω, может переводиться и σαλεύω — «трясти», «качать», «волновать»27, и ἐντρέπω — «устыдить», «изменить»28, и δουλεύω — «рабски служить»29 и др. Прилагательное ani переводится или прилагательными, обозначающими материальную нищету, — πτωχός (нищий), πένης (бедный) и более общее ταπεινός, или нравственным понятием πραΰς (кроткий) в случае явно этического оттенка смысла.
Однако, несмотря на описанную категорию нищих Божиих, Ветхий Завет не содержал явно выраженного учения о смирении как определенной добродетели, не было специальной заповеди, предписывающей смирение. Однако все меняет появление христианства.
Господь начинает свою Нагорную проповедь, первое систематическое изложение христианского нравственного учения, с заповеди Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное30. Слова нищие духом (οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι) — это, по мнению большинства исследователей, арамейское anwana, аналогичное древнееврейскому anaw (кроткий/нищий), или арамейское anya, соответствующее древнееврейскому ani (нищий/кроткий)31. Господь отсылает Своих слушателей-иудеев к хорошо известному им ветхозаветному понятию нищих Божиих, однако своей проповедью переводит это качество в разряд первостепенных добродетелей, необходимых для стяжания Его Небесного Царства. Более того, учиться этой добродетели Он призывает не у кого-нибудь, а у Него Самого: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем32. Главным примером смирения в Новом Завете становится, таким образом, Сам Господь, Который смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной33.
Напротив, для язычников, не знающих богооткровенного учения, начало проповеди Спасителя становится парадоксом, полностью переворачивающим их представление об этике и месте человека в мире. В цивилизации величия, которое провозглашалось целью каждого, к чему ищущий идеала человек стремился доступным ему путем, начинается проповедь духовной малости и нищеты, осознания своего ничтожества перед Богом, смиренной покаянной молитвы.
Именно в христианской среде появляется и специальный термин, обозначающий новую для греческого мира добродетель — ταπεινοφροσύνη, смиренномудрие. Из всех известных греческих текстов впервые это слово встречается в посланиях апостола Павла34, который использует его шесть раз35. Это слово начинает обозначать ветхо- и новозаветную добродетель духовной нищеты и смирения. Также и слово смирение начинает нередко употребляться с аналогичным значением, сохраняя при этом и весь спектр прежних значений, в том числе негативных. Однако в духовно-нравственном контексте эти два слова становятся практически синонимами36.
Творения мужей апостольских излагают по преимуществу библейское учение о смирении и призывают всех христиан стяжать эту добродетель. В большинстве текстов учение о смирении изложено фрагментарно, в зависимости от целей произведения.
Мужи апостольские говорят об укорененности добродетели смирения в Господе, о примере смирения Божией Матери и святых, о смирении как умалении себя пред Богом и ближними, о его необходимости для спасения. Аспект, который при этом выделяется особенно, — призыв христиан к покорности церковным властям. Наиболее полно учение о смирении представлено в Первом послании к Коринфянам святого Климента Римского. На протяжении всего послания автор увещает членов коринфской общины, столкнувшейся с церковным расколом, к смирению и послушанию установленной апостолами иерархии. Многочисленными примерами смирения ветхозаветных праведников, и в первую очередь Самого Господа, автор раскрывает красоту и глубину этой библейской добродетели:
Видите, возлюбленные, какой дан нам образец: ибо если Господь так смирил Себя (οὕτως ἐταπεινοφρόνησεν — букв.: «так смиренномудрствовал»), то что должны делать мы, которые чрез Него пришли под иго благодати Его?37
Ранние апологеты, имея цель защитить и оправдать христианство, зачастую замалчивают о новом качестве, совершенно неприемлемом для языческого мира, — во всяком случае, на терминологическом уровне. Термин смирение у них употребляется по преимуществу в негативном контексте. В христианском смысле слово употребляется почти исключительно в цитатах из Священного Писания, причем довольно немногочисленных. Гораздо чаще, говоря о соответствующей добродетели, апологеты употребляют термин «кротость», πραΰτης.
Они [христиане]… проводят свою жизнь в полном смирении и кротости (πραεῖς εἰσι καὶ ἐπιεικεῖς)38, —
перечисляет в числе прочих добродетельных характеристик Аристид Афинский. О кротости как о качестве христиан говорят также святой Иустин Философ39 и святой Афинагор Афинский40.
Тем не менее у апологетов встречается учение о малости человека пред Божественным величием, а также довольно ярко излагается учение об умалении Господа ради нашего спасения. Наиболее подробно об этом говорится в «Разговоре с Трифоном иудеем» преподобного Иустина Философа41.
Святые отцы, боровшиеся с ложным знанием, при обращении к церковной аудитории не только не боятся говорить о смирении и смиренномудрии, но упоминают эти понятия довольно часто. На первый план выступает у них аспект интеллектуального смирения — осознания ограниченности своих познавательных способностей, призыв не вторгаться с гордостью и дерзостью в то, что сокрыто. Этого качества недоставало гностикам. По учению священномученика Иринея Лионского, гностикам необходимо смириться и в простоте принять истины Священного Писания, тщетно не доискиваясь о сокровенном42, «ибо уничтожает их гордость и надмение»43. Другое проявление смирения, которому нужно научиться гностику, — это покорность церковным властям, поставленным Богом и имеющим апостольское преемство. Отказ от такого послушания — признак гордости. Она приводит к церковным расколам и гибельным ересям44.
Авторы, главным образом из Александрии, у которых апология начинает приобретать черты зарождающейся церковной науки, пытаются систематизировать то, что было сказано о смирении ранее. В их трудах встречаются практически все аспекты, изложенные до них.
В то же время впервые поднимается вопрос о знакомстве античной цивилизации с христианским смирением, который они решают положительно, стремясь примирить христианское смирение с соответствующими языческими качествами: скромностью, кротостью, спокойствием. Именно эти авторы обращают пристальное внимание на единственный фрагмент Платона о добродетельном смирении и стремятся подчеркнуть его близость с христианским качеством. Климент Александрийский решает этот вопрос в духе своего учения о заимствованиях Платона из Ветхого Завета:
…когда Платон учит, что это подобие (Богу. — Иер. П. Л.) в соединении со смирением (την όμοίωσιν ταύτην μετά ταπεινοφροσύνης) присуще человеку добродетельному, он всего лишь истолковывает следующие слова Писания: «Всякий унижающий себя возвысится»… Называя это учение древним, Платон тем самым намекает, что оно дошло до него из Закона45.
Интересна реакция языческого мира на новую христианскую добродетель. Известный критик христианства Цельс относится к этой добродетели вполне в традиционном для Античности духе — сугубо негативно. При этом он упрекает христиан в ложной интерпретации учения Платона.
Их (христиан. — Иер. П. Л.) смиренномудрие (ταπεινοφροσύνη) — [результат] неправильного понимания мысли Платона, который говорит в одном месте в «Законах»: «...кто хочет быть счастливым, следует за ней (за божественной справедливостью. — Иер. П. Л.) смиренно и скромно» (ταπεινὸς καὶ κεκοσμημένος). [А у христиан] смиренный (ὁ ταπεινοφρονῶν) смиряется (ταπεινοῦται) безобразно и на беду себе, повергшись наземь, бросившись на колени и ниц, облачившись в жалкую одежду и посыпав [главу] пеплом46.
Эти слова чрезвычайно примечательны, поскольку являют собой реакцию античной мысли на новое христианское учение. В них очень четко и ярко проявляется контраст между двумя нравственными системами, категорическое неприятие христианского смирения Античностью. Ошибочно оценивая первоистоки христианского учения (каковые следует искать в Ветхом Завете, а вовсе не у Платона), Цельс показывает контраст двух видов «смирения»: христианского и языческого. Античный герой, мыслитель, политический деятель если смиряется, то величественно, с полным чувством собственного достоинства. Христианское безудержное, предельное смирение ему противно. Ни перед кем античный герой не должен бросаться на колени, разрывать одежды, посыпать голову пеплом.
Ориген, защищая христианское смирение от порицаний Цельса, также показывает на его тождество с платоновским учением. Равно как и святитель Климент, он указывает, что Священное Писание появилось раньше текстов Платона. При этом соглашается с Цельсом в том, что у невежественных людей смирение может сопровождаться определенными крайностями:
Если, однако, иные по невежеству неясно понимают учение о смиренномудрии (περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης δόγμα) и ведут себя так, как он описывает, в этом виновато не Слово. Но нам следует проявить снисхождение к невежеству тех, кто, хотя и с благими целями, ошибается из-за этого недостатка47.
В этих рассуждениях Ориген предстает скорее выразителем эллинской философии, нежели христианским мыслителем.
Античность воспевает идеал великодушного человека, смело идущего на смерть за свои убеждения, подобно Сократу. Но, как справедливо отмечает С. С. Аверинцев, этот идеал возможен только в обществе свободных людей, обеспеченных определенными социальными гарантиями. Сохранить сократовскую свободу духа и невозмутимость можно перед чашей с цикутой — но не под пыткой. Ветхий Завет же писался в совсем другом обществе и в других условиях. «Это книга, в которой никто не стыдится страдать и кричать о своей боли. Никакой плач в греческой трагедии не знает таких телесных, таких "чревных" образов и метафор страдания: у человека в груди тает сердце и выливается в его утробу, его кости сотрясены и плоть прилипает к кости»48. Человек в Ветхом Завете взывает к Богу из своей нищеты и страдания — и Бог отвечает ему.
В Новом Завете смирение становится не просто следствием угнетенного, униженного и падшего состояния человека, которому вовсе нечем гордиться и нечем величаться. Здесь главным основанием этой добродетели является непостижимое смирение Самого Бога, которое наиболее ярко проявлено Им в подвиге воплощения, уничиженной земной жизни и крестной смерти Сына Божия, и к подражанию Которому призывается теперь всякий Его последователь. Отныне смирение становится центральной, одной из главнейших добродетелей, следующим за самой верой основанием всего здания христианской нравственности, так как без смирения невозможно стяжание любой другой добродетели, даже никакой подлинно добрый поступок.
Как можно увидеть из приведенного обзора, к III веку христианское учение о смирении в своих основных чертах было вполне сформировано. Однако наиболее глубоко и всесторонне эта добродетель, а особенно практический путь ее приобретения, были изучены несколько позднее, в монашеской аскетической письменности IV и последующих веков.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Статья представляет собой краткое изложение содержания недавно вышедшей монографии: Лизгунов П., иер. Истоки понятия смирения: Античность, Священное Писание, ранняя патристика. Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024.
2 Мф. 11, 28.
3 Лк. 1, 48.
4 См., например: Иоанн Лествичник, прп. Лествица. М., 2005. С. 283.
5 Шлоссер М. Смирение (католич.) // Богословская антропология. Русско-православный — римско-католический словарь: издания на русском и немецком языках / под науч. ред. прот. Андрея Лоргуса, Б. Штубенрауха. М., 2013. С. 515.
6 Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. С. 74.
7 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2005. С. 275.
8 Цит. по: Пестов Н. Путь к совершенной радости. СПб.: Редакция газеты «Православный Санкт-Петербург», 1996. С. 53.
9 Ruddy D. W. A Christological Approach to Virtue. Augustine and Humility. Doctor’s Thesis. Boston College: Department of Theology, 2001. P. 24–47.
10 См., например: Whittle Α. On an Argument for Humility // Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition. Vol. 130. № 3 (Sep., 2006). P. 461–497; Kraft J. Religious Tolerance through Religious Diversity and Epistemic Humility // Sophia. Vol. 45. № 2 (Oct., 2006). P. 101–116; Schweig G. M. Humility and Passion: A Caitanyite Vaishnava Ethics of Devotion // The Journal of Religious Ethics. Vol. 30. № 3 (Fall, 2002). P. 421–444; Schumm W. R. Variations in Themes of Asceticism, Humility, and Love among Muslim Sayings Attributed to Jesus // Islamic Studies. Vol. 44. No. 1 (Spring 2005). P. 113–123.
11 Мф. 11, 28.
12 Лк. 1, 48.
13 См., например: Hare S. Humility as a Moral Excellence in Classical and Modern Virtue Ethics. Doctor’s Thesis. Ontario: University of Ottawa, 1997. 340 p.; Idem. The Paradox of Moral Humility // American Philosophical Quarterly. Vol. 33. No. 2 (Apr., 1996). P. 235–241; Button M. "A Monkish Kind of Virtue"? For and against Humility // Political Theory. Vol. 33. No. 6 (Dec., 2005). P. 840–868; Tadie J. L. Between Humilities. A Retrieval of Saint Thomas Aquinas on the Virtue of Humility. Doctor’s Thesis. Boston College, 2006. P. 216–239.
14 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 3 (Муза — Сят) / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1987. С. 688.
15 Herodotus His. Historiae // Hérodote. Histoires / еd. Ph. E. Legrand. Vol. 4 (3rd edn). Paris: Les Belles Lettres, 1960 [4. 191. 9. TLG 0016. 001]. Цит. по: Геродот. История: в 9 кн. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972. C. 235.
16 Demosthenes Orat. Philippica 1 // Demosthenis Orations / еd. S. H. Butcher.
Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1903 (repr. 1966). P. 47 [23 TLG 0014. 004]. Цит. по: Демосфен. Речи: в 3 т. Т. III / отв. ред. Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. М.: Памятники исторической мысли, 1995. С. 51.
17 Pindarus Lyr. Nemea / еd. H. Maehler (post B. Snell). 5th edn. Leipzig: Teubner, 1971 [3. 82 TLG 0033. 003].
18 См., например: Aristoteles Phil. De partibus animalium // Aristote. Les parties des animaux / еd. P. Louis. Paris: Les Belles Lettres, 1956 [639a TLG 0086. 030]; Idem. Rhetorica // Aristotelis ars rhetorica / еd. W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1959 (repr. 1964) [1404b TLG 0086. 038].
19 См., например: Ibid.
20 Aristoteles Phil. Politica / еd. W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1957 (repr. 1964) [1313b.41 TLG 0086 035]; Plato Phil. Leges [791. d TLG 0059. 034].
21 Euripides Trag. Fragmenta / еd. A. Nauck. Tragicorum Graecorum fragmenta. Leipzig: Teubner, 1889 (repr. Hildesheim: Olms, 1964) [716 TLG 0006. 020]; Aeschylus Trag. Prometheus vinctus // Aeschyli tragoediae / еd. G. Murray. 2nd edn. Oxford: Clarendon Press, 1955 (repr. 1960) [320 TLG 0085. 003].
22 Plato Philosophus. Leges 716. a-b / ed. J. Burnet // Platonis opera. Vol. 5. Oxford, r1967. Цит. по: Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 204.
23 См., например: Быт. 16, 6; Втор. 26, 6; Быт. 34, 2 и др.
24 4 Цар. 17, 20; Руф. 1, 21; Иов 30, 11 и др.
25 Аналогичные пары см.: Втор. 24, 14; Иов 24, 4 и др.
26 Ис. 66, 2. См. также: Соф. 3, 12; Ис. 14, 32; 49, 13 и др.
27 2 Цар. 17, 20.
28 Исх. 10, 3.
29 1 Цар. 12, 7.
30 Мф. 5, 3.
31 Gauthier R.-A. Magnanimité. Paris, 1961. P. 400.
32 Мф. 11, 28.
33 Флп. 2, 8.
34 Шлоссер М. Смирение (католич.). С. 514.
35 Деян. 20, 19; Еф. 4, 2; Флп. 2, 3; Кол. 2, 18, 23; 3, 12.
36 См. об этом подробнее: Лизгунов П., иер. Смирение и смиренномудрие. О соотношении понятий и причинах создания нового термина // Богословский вестник. 2015. № 18–19. С. 118–135.
37 Clemens Romanus. Epistula i ad Corinthios [16 TLG 1271. 001]. Цит. по: Там же. С. 141–142. См. также: Clemens Romanus. Epistulae de virginitate // Patres apostolici / еd. F. X. Funk and F. Diekamp. Vol. 2. 3rd edn. Tübingen: Laupp, 1913 [12. 2 TLG 1271. 010].
38 Aristides Apol. Fragmenta // L'apologia di Aristide / еd. C. Vona. Rome: Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1950 [15.5 TLG 1184. 003]. Цит. по: Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Благовест; Алетейя, 1999. С. 320.
39 Justinus Martyr Apol. Apologia // Die ältesten Apologeten / еd. E. J. Goodspeed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1915 [16. 3 TLG 0645. 001].
40 Athenagoras Apol. Legatio sive Supplicatio pro Christianis / еd. W. R. Schoedel. Oxford: Clarendon Press, 1972 [12. 1 TLG 1205. 001].
41 См. также: Лизгунов П., иер. Понятие смирения у мужей апостольских
и у ранних апологетов // Богословский вестник. 2019. № 1 (32). С. 172–191.
42 Ириней Лионский, св. Творения. С. 134.
43 Там же. С. 316.
44 Там же. С. 387. Этот мотив роднит св. Иринея с мужами апостольскими, в частности со свт. Игнатием Богоносцем и Климентом Римским (см. § 3.2).
45 Clemens Alexandrinus. Stromata [2. 22. 132 TLG 0555. 004]. Цит. по: Климент Александрийский. Строматы: в 3 т. Т. 1. СПб.: Изд. Олега Абышко, 2003.
С. 329.
46 Celsus Phil. Ἀληθὴς λόγος / еd. R. Bader // Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft. Vol. 33. Stuttgart: Kohlhammer, 1940. P. 148. Цит. по: Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М.: Издательство политической литературы, 1990.
С. 307.
47 Origenes Adamantius. Contra Celsum [6.15 TLG 2042. 001].
48 Аверинцев C. C. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука